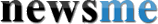
Полная версия сайта
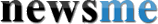

Есть такое понятие «порог крови». Оно о том, насколько человеку/людям/нелюдям легко или сложно преступить грань убийства. Не насилия в широком смысле этого слова. Не публичных призывов в соцсетях кого-то там расстрелять/повесить/посадить на кол. Не в состоянии праведного/неправедного гнева или какого-то другого временного умственного возбуждения. А вот буднично, взять и отнять чью-то жизнь.
Насколько этот «порог» высок или низок в конкретной культуре?
Отношение к смерти — это культурный конструкт, а не биологическая константа. Смерть — зеркало эпохи: ее образы передают социальные, религиозные, психологические трансформации. История смерти — это история индивидуализации, эмоциональной глубины и вытеснения.
Современная культура парадоксальна. Она боится смерти, но вместе с тем ее эстетизирует. Страх смерти начинается с того, что евроатлантическая культура десятилетиями боится называть смерть ее настоящим именем — Россия. Этот страх разлагает культурные ценности нашей небольшой части человечества быстрее, чем глобальное потепление. Потому что абсолютное большинство из восьми миллиардов населения планеты уже не имеет ничего общего с демократией и гуманизмом. И мы не только романтически воспеваем это исчезновение в многочисленных дистопиях, но и пропагандируем способ эгоистической самореализации, в котором не предусмотрено будущее для других. А следовательно, и для себя.
[see_also ids="659487"]
То есть «порог крови» мы обычно рассматриваем с точки зрения нашего цивилизационного нарратива. Со всеми натяжками ему, скорее всего, лет двести. Но мы смотрим на ценность человеческой жизни так, словно это что-то генетически обусловленое, вечное и не может подвергаться сомнению.
Эволюция отношения человека к смерти прекрасно описана в работе Филиппа Арьеса L'homme devant la mort («Человек перед лицом смерти», 1977).
До XII века смерть была публичной, спокойной и приемлемой частью естественного цикла, без драматизации.
После этого растет индивидуализация — человек начинает осознавать свою смертность, и биологический факт превращается в моральное испытание.
С XVII века смерть становится эмоциональным событием, социальным актом, связанным с потерей близких. Ширится культ памяти умерших. 1789 год, «Декларация прав человека и гражданина» во Франции открыла эпоху политического террора, когда за год во имя новой идеологии казнили и запытали около 26 тысяч человек. А с учетом подавления восстания в Вандее можно добавить еще 200 тысяч жертв. Кое-кто еще дописывает в эту тему 100 тысяч жертв революционных войн, но об обстоятельствах войны поговорим немного позже.
В XIX–XX веках смерть вытесняется из публичного пространства — медикализация, госпитализация. Умирание становится частным, изолированным процессом. Общество избегает разговоров о смерти, табуирует ее. Вместо смерти — культ молодости, производительности, вечной жизни.
И с конца ХХ века смерть возвращается в массовую культуру через медиа, кино, искусство большей частью в обезображенной, патологической форме.
[related_material id="658624" type="1"]
Патология — термин драматический. Он упирается в понятие нормы, которая все больше размывается. Мы воспринимаем это иногда как культурную катастрофу. Но в общих рамках антропогенеза есть вполне обоснованное предположение, что человечество как биологический вид уже лет сто как достигло пределов развития, и сейчас происходит процесс деградации. Просто у одних культур он медленнее, а у других стремительнее. Повторюсь, речь идет лишь о биологических показателях человека. Техногенная замена собственного интеллекта искусственным, компенсация когнитивных способностей цифровыми возможностями — это уже совсем другая сказочка.
В этом случае нас интересует, на каком уровне культурной деградации находятся москали. И насколько их тяга к убийству может развиться в общеожидаемый тренд самоликвидации.
Они сами пишут об эпидемии душегубства своих в российской армии, потому что об издевательствах и истязаниях уже даже неинтересно, это банальность. Мы традиционно выводим российское расчеловечивание из азиатчины, что является правдой лишь отчасти. В Азии была высокая культура, которую европейцы переняли от арабов и объявили своей. В Золотой Орде (немного другой ветви Азии) были правила, которые их данники из Московии унаследовали и адаптировали в меру своих тогдашних интеллектуальных способностей. Адаптация произошла в сторону примитивизации, а не развития. Примитивизация позволяла уменьшить потребности и запросы и способствовала выживанию в самых диких условиях.
Между этим периодом и современной «толстоевщиной» было несколько эпизодов полного стирания исторического наследия и мифотворчества на его руинах. Само появление российской литературы было попыткой оспорить французскую культуру и тотальную придворную французскую речь после войны с Наполеоном 1812 года.
Пушкинисты прыгали, как жабы по кочкам на болоте, по косплеям чужих культур — английской, немецкой, французской, пока не допрыгались до коммунизма. Основная идея российского коммунизма — холопы всегда должны быть безликими и ультрапатриотичными в интересах своих обожаемых хозяев. Доказать это можно путем «обнуления» тех, кого можно назначить непатриотичными. Берешь очередного «безликого» — и обнуляешь.
[see_also ids="658501"]
Спускаемся на несколько ступенек ниже в антропоцене. Через тюремную систему в ХХ веке и до сих пор прошло приблизительно 30 миллионов человек. Это отдельная разветвленная субкультура, которая, в отличие от официальной, имеет свою длительность развития и очень высокий уровень адаптивности. Сейчас через эту систему, по самым скромным данным, ежегодно проходит около 700 тысяч человек.
Российская власть пошла на слияние этих взаимоисключающих («по понятиям») тенденций и на тактическом отрезке времени имела успех. Организованная преступность огосударствилась, бытовая преступность, возрастая, оправдывала затраты на карательно-репрессивный аппарат. Об этой субкультуре написано и снято очень много, не буду повторяться. Это не субкультура на сегодняшний день в России. Это и есть основной культурный тренд.
То, что выглядит и распространяется на экспорт через «россотрудничество» и дипломатию, — это разновидность той самой уголовной культуры. Игра в наперстки, картежное шулерство и прочее. Если вы хоть приблизительно знакомы с мотивациями и технологиями того, как правильно «обуть лоха», то российская политика и дипломатия перестанут быть для вас загадкой. Даже при печальноизвестной Меркель немецкая «движуха» «понять Путина» — такой же уголовный спектакль, вследствие которого доверчивые зрители избавляются от кошельков и ценностей.
То есть ментальная полемика (у тех, кто еще имеет какие-то иллюзии) с сегодняшней Россией мотивируется тем, что приемы мошенника можно разгадать, разоблачить, пристыдить, не повторять своих ошибок. И выиграть у наперсточника.
Уголовный бизнес — это высокоорганизованная структура, где силовая составляющая непублична. Демонстрирует агрессивность обычно уличная шпана с комплексом недооцененности и завистью. Убийство в уголовном мире в течение длительного времени было последним шагом, когда все другие способы получить выгоду не сработали.
[related_material id="657273" type="1"]
Эпоха «беспредельщиков» 1990-х была кривозеркальным процессом общей либерализации, окном новых возможностей, новой конкуренции. И поскольку уголовный мир был и остается в России провайдером самых эффективных черт поведения, то как только убийство политических противников стало нормой и показателем эффективного лидерства, сигнал — «малява» о снижении «порога крови» немедленно пошел вниз, к холопам, от камеры к камере, от региона к региону. На этот сигнал был запрос, он отвечал общественным ожиданиям. Когда ты находишься на дне общественного развития среди себе подобных, то не особо этим проникаешься. Но когда узнаешь хотя бы приблизительно об общественном неравенстве и о том, что у тебя в принципе нет шансов его преодолеть, единственный механизм повысить самооценку — это предоставить себе право «обнулить» кого-то.
В мозг попадает нейромедиатор, так называемый короткий дофамин, который может привести к зависимости от стимулов, снижению базового уровня мотивации. И в результате к попаданию в «дофаминовую яму», когда обычные вещи перестают приносить удовольствие.
В случае москалей можно говорить о наследственности поведения. Наследственность — это статистический показатель, описывающий, какую часть вариации определенной черты в популяции можно объяснить генетическими факторами. Гены не определяют поведение направления, а создают склонности, которые реализуются в зависимости от среды. Ориентировочный показатель унаследованной эмоциональной нестабильности (нейротизм) — от 40 до 60%. Эпигенетика показывает, что гены могут «включаться» или «выключаться» под влиянием стресса, травм, пережитого опыта.
Предположение — москальские гены и не выключались в этом направлении в принципе. Это такой «стокгольмский синдром» в диапазоне нескольких поколений, когда происходит полная инверсия ценностей.
Мы неслучайно вспоминаем в пабликах о некрофилии Кремля. Это культурная метафора, которая использует специфический психопатологический термин. Психиатры сразу упомянут о «парафилическом спектре» расстройств, связанных с атрибутами смерти. Но здесь проблема в том, что такие расстройства рассматриваются в контексте сексуальности. А секс, как ни крути, — это о жизни.
[see_also ids="652880"]
В XIX–XX веках некоторые больные туберкулезом воспринимали себя как «мстителей» — это была крайняя форма психологической реакции на социальную изоляцию, стигматизацию и безысходность. Они могли нарочно нарушать санитарные нормы или даже стремиться заразить других, считая это актом мести обществу. Возникала агрессия по отношению к здоровым, заражение как акт возмездия за социальное отчуждение. Во Франции, в Германии, России описаны случаи, когда туберкулезные больные считали себя «мстителями буржуазного мира», особенно в революционных или анархистских кругах.
Клиническое толкование вполне вписывается в официальную идеологию современного рашизма. Такое поведение может быть проявлением психотических эпизодов (параноидных идей), депрессивно-суицидальных состояний, антисоциального расстройства личности, реактивной агрессии на стигму и изоляцию. Фигура «мстителя»-убийцы сочетает в себе травму, стигму, агрессию и утрату смысла существования. То, что это явление в России становится массовым, само по себе — феномен. Он объясняется как упомянутыми выше причинами, так и механизмом психической индукции, известным из Средневековья как «тарантелла» или «пляска святого Витта».
Устойчивая склонность к смертоубийству себе подобных — это проявление аутодеструкции, саморазрушения. Личность в целом уже разрушена, и ненависть за это разрушение переносится на все вокруг, в первую очередь на своих.
Нам, конечно, хочется дождаться всей этой цивилизационной справедливости. Увидеть своими глазами масштабное самообнуление. Но всем известно выражение: «Жернова Господни мелют медленно, но неумолимо».
Здесь главное не мешать Божьему промыслу и максимально способствовать нашим безмозглым соседям как можно быстрее встретиться с Ним.
Не меньше, чем упомянутое выше, а, наверное, и больше, нас интересует, что происходит с нами.
На окончательное формирование ценностей в разных социальных группах влияют две противоположные тенденции. Их можно сравнить с силой центробежного движения.
В первом случае стрессообразующая ситуация приводит к тому, что более тяжелые частицы оседают ближе к периферии, более легкие — ближе к центру. Здесь нет моральных соответствий, можете сами их себе назначить. Важна сама динамика сепарации. Она резко контрастная.
Во втором случае, когда общественная суспензия перестает бурлить, разные слои осадка формируются медленнее, естественным способом, как и более чистая часть, которая сверху.
[see_also ids="628048"]
Внутренняя миграция и попытки найти какую-то общую систему общественных координат (не путать с политическими вбросами) удерживает нас в состоянии постоянного возбуждения, между крайностями.
Хорошая новость в том, что расчеты врага на работу с какой-то четкой социальной группой проваливаются, потому что все эти группы пребывают в процессе постоянной перезагрузки и системных изменений. Не на что наводить прицел.
Вторая хорошая новость в том, что у нас таки сформировалось гражданское общество. Не то, игрушечное, из книг Карла Поппера, а влиятельная прослойка с собственным статусом и нарастанием влияния. (Оно точно не унитарное, не единое, что является поводом для множества медиаср... плачей, но смотрите хорошую новость № 1. ) Гражданское общество наше сформировалось на фоне дискуссии о ценностях, а не об экономическом благосостоянии, как на Западе.
Блокировка механизма самоуничтожения и уничтожения своих — это регуляторный механизм, который даже в краткосрочной перспективе дает видовое преимущество. У москалей он поломался и не восстанавливается, а у нас — наоборот.
Это совсем не говорит о какой-то розовой гуманизации общества. Травмы войны, связанные с насилием, масштабны. Но работа по их уменьшению у психотерапевтов базируется, в частности, на обращении человека к системе собственных ценностей. Гражданское общество — это о жизни, а не о смерти.
Есть количественно большая проблема с СОЧ. Называют цифру в триста тысяч. Вы действительно хотели бы, чтобы всех этих людей расстреляли? И это изменило бы ситуацию?
В армии Наполеона количество уклонистов и дезертиров достигало десятков тысяч ежегодно, от 10 до 30% рекрутов, в зависимости от периода войн. Методы уклонения были те же — фальшивые документы, самоувечье, бегство в захолустье или за границу. Закон 1791 года о смертной казни за дезертирство не давал никаких ощутимых последствий. Ситуация от нашей отличается лишь тем, что был легальный рынок «заменителей». Можно было нанять за деньги человека, чтобы служил императору и Франции вместо тебя. Во время войны с Россией суммы выросли.
Короткий вывод: мы не убиваем массово своих, потому что мы не самоубийцы. А москали — да.
[votes id="3168"]