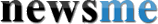
Полная версия сайта
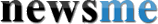

Монетарный суверенитет — много ли он значит во время войны? На самом деле его влияние можно считать если не решающим, то, наверное, одним из определяющих.
Во время Второй мировой войны экономическая теория обогатилась новой теорией развития — «военным кейнсианством». Она была названа в честь известного английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса. Многие элементы этой теории воспринимались как безоговорочные новшества. Это и роль целевой эмиссии денег центрального банка, и теория занятости во время войны, и роль государства в прведении контрциклической политики.
Кстати, Кейнс смог воплотить свои идеи и на практике.
В 1940 году он был советником министерства финансов Британии, а 1942-м его назначили на должность одного из директоров Банка Англии — Кейнс занимался вопросами военных финансов, социального обеспечения и занятости во время Второй мировой войны.
Итак, рассмотрим буквально несколько новшеств этого несомненно выдающегося экономиста.
[related_material id="659082" type="1"]
Контрциклическая политика. В мире тогда преобладала позиция представителя венской либертарианской школы экономики Йозефа Шумпетера (кстати, профессора Черновицкого университета в 1909–1911 годах). Ему принадлежала известная теория, согласно которой государство не должно вмешиваться в разрушительные процессы на ниспадающей кривой экономических циклов. Условно говоря, «все, что умирает, должно умереть», и спасать это — только напрасно тратить ресурсы и время. Такое вот своеобразное «экономическое ницшеанство», которое еще иногда называют «творческим разрушением» или «положительной индустриальной мутацией».
Наиболее ярко этот подход сработал во время Великой депрессии в США в 30-е годы прошлого века, — государство тогда на начальной стадии кризиса самоустранилось, позволив кризисным явлениям охватить всю экономику. Хотя некоторые либертарианцы говорят, что государство тогда самоустранялось недостаточно. Имеется в виду Новый курс Рузвельта, который тогда был направлен на применение государственных стимулов занятости, в основном через инфраструктурные проекты.
Но позиция Кейнса была другой. Он выдвинул идею «контрцикла»: государство не только может, но и обязано спасать экономику, если это вызвано искусственными, а не эволюционными последствиями. Например, войнами, пандемиями и финансовыми кризисами.
Вторая мировая война доказала правоту Кейнса, ведь окончательно от последствий Великой депрессии 30-х США избавились только во время Второй мировой войны, реализуя политику Нового курса Рузвельта и элементы политики «контрцикла» Кейнса (государство должно инвестировать во время кризиса, когда бизнес, наоборот, сокращает инвестиции).
Есть еще один факт из биографий Кейнса и Шумпетера, о котором представители либертарианской модели развития предпочитают не впоминать.
Кейнс, как мы уже упомянули, с 1940 года консультировал Министерство финансов Британии и с 1942 года входил в состав правления Банка Англии. А Шумпетер с 1917 года работал сотрудником комиссариата экономики военного времени Австро-Венгерской империи, а с 15 марта по 17 октября 1919 года — даже министром финансов Австрии.
[see_also ids="661382"]
Как видим, результаты деятельности Кейнса и Шумпетера на их должностях во время мировых войн «немного» отличаются.
Более того, еще один представитель венской либертарианской школы экономики Фридрих Хайек вспоминает: «В Австрии после 1922 года имя Шумпетер стало среди простого люда почти ругательным из-за его принципа «крона есть крона». Имеется в виду, что Шумпетер подписал декрет о выплате довоенного государственного долга в австрийских кронах без индексации, несмотря на то, что эта валюта во время войны обесценилась в 15 тысяч раз.
Кейнс также говорил, что ключевым маркером неправильной экономической политики во время войны является высокий индикатор безработицы. В Украине безработица во время полномасштабной войны, кстати, составляет 15–20%.
Известна также история об «экономике на пальцах», когда ученый объяснял британскому чиновнику во время войны, что его выражение «в бюджете нет денег на этот проект» ошибочно (при условии наличия монетарного суверенитета, конечно).
Кейнс спрашивал: «Когда вы говорите, что нет денег для строительства, это означает, что у вас нет кирпича, рабочих, цемента? ».
«Нет, — говорил чиновник, — это все у нас есть».
«Тогда что вы имеете в виду, когда говорите, что на это нет денег», — продолжал Кейнс.
Иначе говря, в условиях таргетированной или целевой эмиссии во время войны можно профинансировать любой проект. Вопрос только в том, нужен он для достижения победы или же нет
То есть деньги — это только «раствор», связывающий в единое целое кирпич, цемент и рабочую силу для строительства разрушенного войной дома.
И этот «раствор» продуцируется «монетарной железой» центрального банка.
Поэтому, когда украинские министры говорят, что у нас нет денег, чтобы на 100% профинансировать производство ОПК, то они или не читали Кейнса, или лукавят. Или упрямые последователи Шумпетера, чьи идеи именно во время войны несут губительные последствия для экономики.
[see_also ids="657674"]
А теперь перейдем к Национальному банку Украины.
Представьте себе модель, когда вы из одного кармана перекладываете деньги в другой карман, и во время этого «увлекательного процесса» значительная часть денег «куда-то исчезает».
В начале полномасштабной войны у нас было два месяца «монетарного суверенитета», когда НБУ финансировал правительство и ВСУ.
Это происходило с марта по июнь 2022 года (если брать не сам срок финансирования, а период низкой учетной ставки НБУ в размере 10%).
Потом НБУ увеличил учетную ставку до 25% (сейчас она находится на уровне 15,5%) и оформил долг правительства по предоставленным им средствам в виде военных облигаций. Проценты по которым определяются согласно средневзвешенной за период учетной ставке Нацбанка.
То есть представьте себе ситуацию: вы приходите в банк, размещаете в нем свой депозит, а ставку по этому вкладу можете определить самостоятельно, по своему усмотрению!
Для вас это невозможно, а для НБУ — почему бы и нет: он дал правительству деньги в долг под ставку, которую сам же и регулярно определяет.
Для чего ему такой инструмент? По этому портфелю военных облигаций при уровне ставки в 15,5% НБУ получит годовой процентный доход в размере более 60 млрд грн.
Для чего ему эти деньги?
Нацбанк «транзитом» выплачивает эти денежные средства группе коммерческих банков по депозитным сертификатам, которые выпускает и продает частным финансовым учреждениям.
Сколько это в гривнях?
В 2023 году НБУ выплатил банкам почти 86 млрд грн.
В 2024-м — около 82 млрд грн.
В 2025 году — ориентировочно 65–70 млрд грн.
Или всего до 240 млрд грн за три года войны.
[see_also ids="656870"]
То есть таргетированная эмиссия НБУ в поддержку банков (выплата процентов по депозитным сертификатам — это денежная эмиссия) составляла уже 60% от таргетированной эмиссии НБУ в поддержку страны в целом во время войны (а это и экономика, и ОПК, и социальная сфера, и ВСУ).
Именно поэтому банковская система получает рекордную историческую прибыль во время войны: 83 млрд грн в 2023 году и 104 млрд грн в 2024 году. А рентабельность капитала достигает 40% и выше. В значительной степени из-за политики «дорогой гривни», которую проводит НБУ и вследствие которой мы наблюдаем почти полный обрыв кредитного цикла в нашей экономике военного времени.
В СМИ публиковались и цифры выплат НБУ в пользу коммерческих банков: в 2023 году по депозитным сертификатам overnight — 64,3 млрд грн, по трехмесячным сертификатам — 21,7 млрд грн; в 2024 году 51,7 млрд и 29,9 млрд грн, соответственно.
В среднем НБУ иммобилизует (отвлекает) с денежного рынка от 400 до 500 млрд грн ликвидности банков, которая могла бы идти на кредитование реального сектора экономики (см. рис. ).
При этом в результате этих операций НБУ существенно сократил свои перечисления в государственный бюджет: в 2022 году это было 72 млрд грн, а 2023-м — только 38,6 млрд грн.
По состоянию на сейчас НБУ перечислил за 2024 год немногим более 38 млрд грн из задекларированных 84 млрд грн. То есть общая финансовая поддержка государственного бюджета со стороны НБУ сейчас уступает «подогреву» финансовых показателей нескольких десятков частных банков.
Подытоживая, можно перефразировать слова известного сказочного персонажа: «Деньги у нас есть, у нас монетарного суверенитета не хватает».
[votes id="3181"]